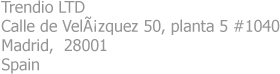«Люби ближнего твоего...» А кто он — мой ближний?
«От ближнего зависят наша жизнь и смерть» (преподобный Антоний Великий). Но кто этот ближний? Да любой человек, не только наши близкие. Не надо, кстати, путать значения этих слов и смешивать их. Близкие — это семья, родственники, друзья, единомышленники. Ближние — это вообще все люди, как близкие, так и даже враги, как это ни странно. То есть, это все те, кто неслучайно или случайно оказался рядом с нами, особенно те, кто нуждаются в нашей помощи. Как сказал духовный писатель второй половины XIX века, протоиерей Иоанн Толмачев, «кто не помогает другому, потому что он иудей, турок или лютеранин, тот не христианин».
В Евангелии заповедь о любви к врагам тесно связана с заповедью о любви к ближнему:
«Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: люби́те врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Мф 5:43-45).
То есть, с евангельской точки зрения невозможно любить ближнего, если ты ненавидишь своих врагов, потому что враги — тоже ближние. Это, конечно, может показаться очень странным, с точки зрения так называемого здравого смысла, или так называемой естественной жизни, но тем не менее, это так. Почему? Понять это поможет апелляция на этот раз к церковнославянскому языку. Интересно, что в нем русскому слову «ближний» соответствует вроде всем знакомое тоже русское, но непривычное в этом контексте слово «искренний». «Возлюбиши искреннего твоего» — вот как в церковнославянском, например, произносится заповедь «возлюби ближнего твоего».
Какой смысл в этом заключен? О чем
Читать на cyplive.com