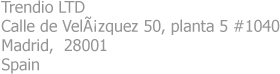«Пряча за решительным видом жуткий страх, я пошел через весь зал к ней» — история священника о том, как он встретил любовь всей своей жизни
Я редко ходил на вечера — так в семидесятых назывались школьные танцы. И не потому, что не хотелось — ох, как хотелось! Но не всегда находилось что-нибудь праздничное из одежды: семья большая, жили скромно. А на школьные танцы все принаряжались: парни надевали новые клёши, девчонки — ах! — «на лугах венки плели, башмачки в руках несли...» Поэтому к обычным подростковым комплексам добавлялся отцовский пиджак не по размеру и старые отцовские туфли, начищенные мной до самоварного блеска. Но к тому школьному вечеру мама выкроила из скромного бюджета копейку, потраченную мной на пошив новых брюк и покупку шелковой рубашки.
Помню волнение, усиливающееся по мере приближения к старому зданию школьного спортзала. Из него доносились звуки музыки, большие окна горели в зимних сумерках, превращая старые стены в средневековый замок, маня тайной и возможностью чуда. Большие двери перегретого жарким дыханием зала иногда открывались для проветривания, и тогда клубы белого морозного воздуха вползали в пространство волейбольной площадки, превращенной в танцпол.
Я опоздал к началу, вечер был в разгаре, девчонки и парни стояли по стенкам группами, смеялись, болтали ни о чем, тайком рассматривали друг друга. Не знаю, что случилось, но, сам того не ожидая, пряча за решительным видом жуткий страх, под прессом любопытных взглядов пошел через весь зал к ней — самой красивой из параллельного класса, которую всегда выискивал взглядом на переменах.
И чудо свершилось: мы танцевали медленный танец, который танцуем до сих пор, спустя сорок с лишним лет, когда никто не видит, под ту же «звездочку мою ясную». А тогда ей было четырнадцать, мне пятнадцать, и мы не чувствовали под собой земли.
— Тебе нравится вечер? — спросил я, мучительно соблюдая
Читать на cyplive.com