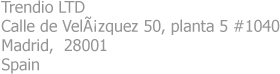«Не стыдно над батюшками издеваться?» Как одна старушка исповедоваться хотела
Исповедь в это воскресенье прошла оперативно, организованно и быстро. От этого и освободился раньше времени, еще до «Отче наш». Ушел в алтарь, собираясь присесть, чтоб разгрузить гудящую поясницу.
Еще епитрахиль снять не успел, как пономарь, пробегающий мимо, сообщил, что какая-то опоздавшая бабушка дожидается возле аналоя.
Взял с престола Евангелие, крест и вернулся в народ. Никого. У аналоя, чуть поодаль, стоят спокойно и молятся прихожане, дожидаются причастия, те, кто послабее, вдоль стеночки на лавку уселись, никого не трогают и ничего не просят.
Ушел обратно. Только снял епитрахиль, другой пономарь:
— Батюшка, там бабушка на исповедь просит.
Снова вышел в люди, всё та же картина: бабушки хоть и есть, да уже раскаявшиеся, добрые и смиренные, батюшек беспокоить и не собирались. Посмотрел на всех внимательно и вернулся назад.
Уселся в пономарке на скамеечку, а тут опять с тем же известием уже третий наш помощник…
— Не стыдно, — говорю, — над батюшками издеваться?
— Нет, — отвечает, краснея, мальчишка и, показывая на приоткрытую дверь, добавляет: — Вон стоит.
Выглядываем оба из алтаря — никого…
— Батюшка, только что была… честное пионерское!
Не стал ругаться, хвостиком махнул и уплыл на свою скамеечку.
Только дыхание перевел, гудящую поясницу стало отпускать, стук в дверь правого придела — на пороге наш храмовый дежурный Володя:
— Отец Давид, там бабушка пришла на исповедь, уж больно настойчиво вас просит.
— И ты, Брут? — умирающим голосом отозвался я, но все же препираться не стал, взял Евангелие, крест, надел епитрахиль, выхожу и вижу: у аналоя на стуле сидит спокойненько наша согбенная старушка раба Божия Любовь, а рядом караулит другая, тоже старушка, только помоложе и не согбенная Нина Петровна.
— Батюшка, я ее поймала! —
Читать на cyplive.com